Ивлиева В. Человек вопрошающий
- Nadejda Erlih
- 15 июл. 2025 г.
- 7 мин. чтения
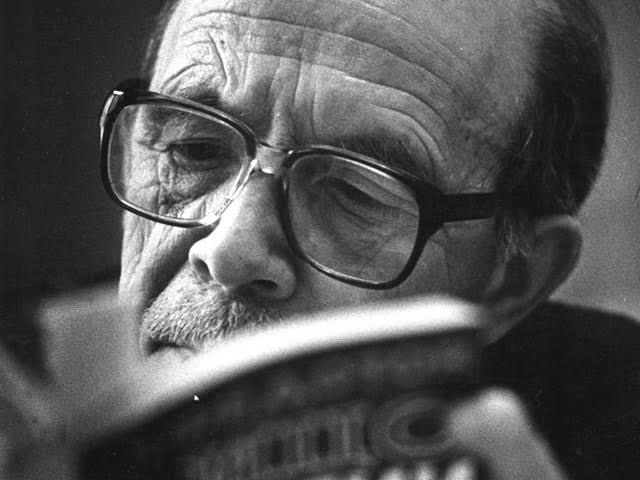
Отклик на сборник текстов Михаила Гефтера «Между гибелью и эволюцией» (М: Фонд «Связь эпох», 2024; сост. Мих. Рожанский) включает в себя фиксацию личного опыта прочтения и попытку увидеть не столько актуальность мысли Михаила Гефтера, сколько её современность и своевременность. Проводятся параллели с идеями В.В.Бибихина и Д.Бонхёффера.
Ключевые слова: Национальный вопрос, альтернатива, маргинальность, многоукладность, понимание, диалог, идеология, язык, погубленное поколение, Н.И.Бухарин, К.С.Гамсахурдиа.
Ивлиева Варвара Дмитриевна, магистр театроведения, независимый исследователь, Москва, Россия. E-mail: bobrischevreke@gmail.com
The questioning man
This response to the collected writings of Mikhail Gefter (compiled by Mikhail Rozhansky) combines a subjective engagement with the texts and an attempt to explore not so much the relevance of Gefter’s thought as its contemporaneity and timeliness. The discussion situates his ideas in relation to the thought of V.V. Bibikhin and D. Bonhoeffer.
Key words: National question, alternative, marginality, multi-structure, understanding, dialogue, ideology, language, ruined generation, N.I. Bukharin, K.S. Gamsakhurdia.
Ivlieva Varvara Dmitrievna, master of theater studies, independent researcher, Moscow, Russia. E-mail: bobrischevreke@gmail.com
Как важно первое слово, взрывающее тишину своей нахальной решимостью прозвучать.
Как важна первая страница, выстраивающая связь и задающая тон.
Случайность ли и немощь ли – невозможность сразу перейти к «сути», растягивание вводных слов? Статья Михаила Гефтера «Русский еврейский вопрос» состоит из 12 частей. Пятую он начинает словами: «Увертюра затянулась». Первой строчкой шестой он вскрывает метод (если можно это назвать методом. А что это вообще?): «Делать нечего. Взялся за скоропись откровения, силься идти до конца. С немудрящего стона переходя на осмысляющий разбор». Скоропись откровения. Первые разделы этой статьи действительно похожи на помесь исповеди и личного дневника. А может даже на черновик исповеди скорее? Набросанные короткие фразы, сумятица ассоциаций и аналогий, след, оставляемый мыслью в прерывистом и противоречивом её движении.
Нет, не случайность, а поиск интонации, ниже – поиск языка. Языка как связи, которую необходимо каждый раз обретать и создавать. Язык для Гефтера – понтонный мост, а не каменный. Потому так красив, так сложен, так разнообразен – и так неровен, так сбивчив местами, в письменном тексте – как в устном.
«Теперь мы слишком хорошо знаем, что связка речи с совестью и мировосприятием до чрезвычайности хрупка, что её – нарушенную и искаженную – восстановить труднее, чем любые другие создания ума и сердца».
Парадокс этой мысли в том, что связь разрушается именно тогда, когда начинает казаться надёжной, твердой и незыблемой, несомненной и неотменимой, как столбовая дорога. Тут-то мы и обнаруживаем, что абсолютно однозначное слово – не значит ничего.
Иногда кажется, что на уровне языка все тексты Михаила Гефтера – попытка найти способ речи, органически сопротивляющейся идеологизации, превращению в штамп. Расхожий путь – искать такую речь в исповедальности. Но и исповедальность заштамповывается в два счета, замыкаясь в эмоциях и субъективности. Пойти дальше – и с «немудрящего стона» перейти на «осмысляющий разбор». Но не случайно же разбором Гефтер не начинает, или им не ограничивается, отодвигая другую крайность – объективизации и рационализации, отменяющей человека.
В нём поражает способность думать всем собой, пропуская мысль и через сердце, и через эмоции, через всю свою психофизику. Всё, что есть в человеке, оказывается частями его исследовательского аппарата. Он обнаруживает в себе инструменты совсем неочевидные, далеко не всегда чисто интеллектуальные. Один из них – боль. И от боли, от её проживания и фиксации – к разбору, к скрупулезнейшему анализу каждой мелочи исторического бытования человека. К вопросам, которые, порождаемые этой болью, одни лишь могут её унять.
«И убеждаемся: отдельное, заключённое в одной судьбе, проясняет универсум куда глубже, чем самая изощрённая и выписанная суммарность».
Это – credo историка, от статистики уходящего к пониманию. Но и понимание само в себе содержит огромную трудность.
«Первично же – Слово, сделавшее возможными собственно человеческую РАЗНОСТЬ и только человеческое ПОНИМАНИЕ.
Дерзаю предположить: в прародителях Слова – слабость, слабый».
Это – из знаковой статьи, посвященной Николаю Бухарину – «Апология Человека Слабого».
Как неожиданно здесь мысль Гефтера смыкается с мыслью совсем иного мыслителя – Владимира Бибихина. В книге «Узнай себя», вырастающей из лекций, прочитанных на философском факультете: «Интеллигент, что значит понимающий (интеллигенция, intellectus) сам себя обеспечить и защитить не может. Его понимание, наоборот, из него вынимает ту самозащиту, на которую уверено, что имеет право, каждое существо. <…> Интеллигент в глазах практически активного человека смешон, беспомощен, жалок, и получается что он один, в ком присутствует то что всем правит, понимание как чистое умение, оказывается жальче и беспомощнее всего; кажется глядя на него, что он может только дискредитировать своей беспомощностью дело, которому служит»[1].
Симптоматично, что и для Гефтера, и для Бибихина всё это насущной необходимости понимания не отменяет. Гефтер ссылается на Витгенштейна, говоря, что непонимание – естественное состояние человека, но, если мы не совершаем усилия понимания, естественное непонимание перерастает во взаимное отторжение.
Значит – понять. А для этого – окликнуть, вызвать из небытия тех, чей голос был задушен и заглушен, кто был насильственно стёрт с картины мира именно потому, что делал её слишком сложной, слишком противоречивой. Кто самим своим существованием взывал к пониманию, сиречь к диалогу, сиречь к памяти, сиречь к бытию. К нам, проще говоря. К нам сегодняшним.
Через публикацию документов два странных и почти пугающих диалога вырастают на страницах этой книги.
Грузинский писатель Константинэ Гамсахурдиа пишет Ленину. Много позже Николай Бухарин пишет Сталину из тюрьмы. Не даёт покоя человечность пишущих. Разные (до противоположности!) изводы этой человечности. И молчание адресатов.
Но молчание молчанию рознь. Гефтер вслушивается в это молчание. Пытается различить в нём слова. Ему жизненно важно, чтобы диалог всё же состоялся. Поэтому в случае с Гамсахурдиа и Лениным он просто его домысливает – оговаривая неизбежную предположительность и условность. А если ответил бы – то что? А ему в ответ?
Что меняется сейчас от того, что эти голоса оказываются поставлены рядом и выравнены в правах? То ли, что это даёт нам возможность вступить в разговор? То ли, что открывается возможность альтернативы там, где виделась неизбежность, с тем или иным знаком?
Насущная потребность вступить в диалог, поиск собеседников в живых и в «живых мертвых», в современниках и в голосах минувших эпох, эта тревожащая неуспокоенность – ведь тоже далеко не случайная черта. Она и от неверия в окончательный, единый для всех ответ, и от ясности осознания – без поиска ответа, без цели, без надежды, без пути человек жить не может. Одно из самых страшных его предостережений – человечество не может вечно удерживать status quo, жить ради самосохранения. Сдерживание ради сдерживания человеку невыносимо – и потому всегда чревато взрывом. Выход – даже нет, скорее возможность выхода – в динамическом равновесии, в постоянном диалоге и постоянном поиске, мирном и невыравненном (а потому и противоречивом, а потому и всегда вопрошающем) сосуществовании миров в Мире.
В вопросе вместо ответа.
И отсюда – снова про хрупкую, исчезающую семантику.
«Оставляя потомкам след-текст и след-запинку, след-немоту».
Таким может быть текст-источник. А тексту историка позволительно ли таким быть? А если спросить иначе: позволительно ли ему быть иным?
Есть то, что только немотой сказать и можно. И тогда текст уничтожает сам себя. Читателю остаются руины. В руинах – подсказка. Найдя её, можно тоже выйти в немоту, вслед за автором. Зачем?
…Кажется, что поздние тексты Ленина – один из главных источников вопрошания Гефтера. Точка, в которую он снова и снова ставит себя, и из неё озирается на прошедшее и грядущее. Тема развилок, болезненность и близость национального вопроса, идея многоукладности – всё это не оттуда ли? И вопрос Выбора. Выбора снова и снова.
Тогда Сталин парадоксальным образом – главный предмет мысли. Символ загубленной альтернативы, несвершившегося выбора – он стоит ответом поперек вопроса, комом в горле и палкой в колесе. И – преодолевая боль и тяжесть и невозможность – решиться всё-таки переспросить.
«Может быть, он и есть для нас, для нынешнего нашего ищущего духа предмет мысли – несмотря на то, что именно это – способность к независимой мысли, к нравственности серого вещества, к сомнению, без которого нет истины, – он вытравлял и выбивал из нас и настолько преуспел в этом, что и сегодня мы чаще членораздельно мычим, полагая, что думаем вслух…»
Гефтер ничего не говорит о вине, не присваивает себе права на суд. Но много размышляет о цене. Есть ли у цены нравственное измерение? «Имморализм Ленина» (Георгий Федотов) – не как безнравственность, но как нечуткость к нравственному измерению цены?
…Гефтер стал мне и учителем, и собеседником внезапно – попав в самые глубинные и сокровенные размышления и задав параметры мысли, наметив маяки и магистрали. Но при этом трудно отделаться от ощущения, что он чего-то не видит, именно принципиально не видит, как будто есть у него какие-то слепые пятна, которые есть и родимые пятна, почти неотъемлемые от него самого, от его эпохи, поколения, опыта и культурного контекста. И вместе с тем более важным остаётся другое: он из собственной парадигмы отчаянно выламывался, именно в несовершенном виде, как процесс. И процесс этот им не был завершён, может быть, и не мог быть завершён, но он показал, как это делать, наметил путь выхода из идеологического тупика как такового, а не конкретного, связанного с его временем и его эпохой. Как будто он всю жизнь прокладывал дорогу, по которой пройти предстояло другим.
Это мы обретаем, выходя вслед за ним в немоту. Способность сложно мыслить, переспрашивать любой ответ, равно чудовищный и «изначально праведный», и всё же – переспросить.
А ещё – вдруг увидеть совсем иной модус жизни, смещающий приоритеты.
Про Бухарина: «…а более всего – удачливостью в поражениях, этим незаимствуемым свойством баловней всечеловеческого Рока». Удачливость в поражениях, свойство баловней Рока – рока, а не судьбы! В этом трагичность мысли Гефтера – и её преисполненность надеждой.
«Маргинальность – драгоценное свойство».
«К тому же я не диссидент в привычном смысле, я, если угодно, аутсайдер или, по Вашей терминологии, еретик».
Как будто именно XX век открывает это: быть маргиналом, быть аутсайдером – значит обрести свободу и незамутненный взгляд.
И из немецкой тюрьмы откликается пастор и участник Сопротивления Дитрих Бонхёффер:
«Чрезвычайно ценным опытом остаётся то, что мы в какой-то момент научились смотреть на масштабные события мировой истории снизу, с позиции изгоев, неблагонадёжных, тех, с кем дурно обошлись, лишённых власти, угнетённых и осмеянных, коротко говоря – страдающих. Только бы теперь наши сердца не разъела горечь и зависть – дабы мы смогли новыми глазами посмотреть на большое и маленькое, на удачи и горести, на силу и слабость; дабы наш взгляд на величие, человечность, право и милосердие стал более ясным, более свободным и менее предвзятым. Ведь страдание, выпавшие на нашу долю, – это более пригодный ключ, более плодотворный принцип для того, чтобы изучать и деятельно открывать мир, чем личное счастье»[2].
…Отдельный цикл текстов Михаила Гефтера посвящен его однокурсникам, погибшим на войне, и шире – его поколению, «погубленному поколению». Память и любовь сподвигают в мёртвых видеть живых, вопрошать их снова и снова. Это – потребность сердца, но это и потребность ума. «Духовные опыты всегда оспаривают друг друга и этим друг другу нужны!» Все неразрешенные конфликты прошлого достаются в наследство нам, но без них, без живых мёртвых, без тех, кто был до нас, мы их не разрешим.
Михаил Гефтер – уже не человек нашей эпохи. Или – с большей горечью – наша эпоха – не эпоха Михаила Гефтера. И всё же он пишет это о Короленко, а слова эти звучат теперь как сказанные о нём:
«Это нам ещё только надлежит стать его современниками».
[1] Бибихин В. Узнай себя, СПб, 2015. С. 39.
[2] Бонхёффер Д. Спустя десять лет / пер. и коммент.: Д.Н. Лебедев, М., 2025. С. 72-73.
"Историческая экспертиза" издается благодаря помощи наших читателей.



